Жак Деррида
Что это такое, поэзия?
Перевод и комментарий Александра Любинского
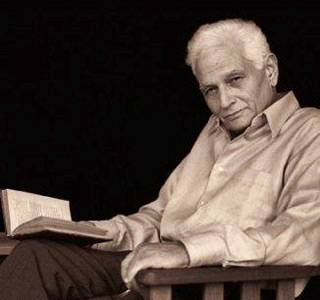
Чтобы в двух словах ответить на такой вопрос (всего в двух словах, верно?), от вас требуется знать, как отказаться от знания. А чтобы хорошо узнать это и даже не забыть, нужно вот что: демобилизовать культуру, но никогда не забывать в вашем ученом незнании, чем вы пожертвовали в дороге, пересекая дорогу.1)
Кто же осмеливается спрашивать меня об этом? Хоть это и остается неявным, поскольку исчезновение — его закон, ответ выглядит надиктованным. Я сам — этот диктант, выговаривание поэзии, сердечное изучение меня, копирование меня, охрана и поддержка меня, высматривание меня, взгляд на меня, диктат диктовки, прямо перед глазами: солнечная дорожка, пробужденье, тропа света, фотография праздника утра.
Это — видит себя как диктант, как ответ, в существе своем поэтический. И именно поэтому он обязан адресоваться кому-то, а именно — вам, но словно бы бытию, потерянному в анонимности между цивилизацией и природой: нетерпеливый секрет, сразу же и общий, и частный, абсолютно один и иной, прощенный извне и изнутри; ни один, ни иной, животное, брошенное на дорогу, абсолютное, одинокое, свернувшееся в комок, вблизи самого себя. И именно поэтому оно может бежать, скрыться, именно так: еж, hérisson по-французски, istrice по-итальянски, по-английски — hedgehog.2)
А если вы отвечаете иначе, то это уже зависит — с учетом пространства и времени — от каждого конкретного случая, где вы даны уже с этим demandе (вот вы уже заговорили по-итальянски) и благодаря ему самому, в соответствии вот с этой конкретной упорядоченностью (economie), но также и в неминуемости некоего выхода — за самого себя, прочь от дома, возвращения к языку другого с учетом невозможности или отрицания перевода, насущного, но вожделенного как смерть — что же все это? Вся эта ситуация, в которой вы начали поворачиваться в бессвязности бреда, имеет ли она какое-то отношение к поэзии? Или, скорее, к поэтическому, поскольку вы намерены говорить об испытании — ином слове для обозначения путешествия, здешней случайной беспорядочности передвижения-перехода, строфе, которая поворачивается, но никогда не возвращается к дискурсу или домой, по меньшей мере никогда не сводится к поэзии — написанной, произнесенной, даже спетой.3)
И тут же, в двух словах, чтобы не забыть:
1. Economie памяти. Поэма должна быть короткой, эллиптичной по своему призванию, какой бы ни была ее объективная, реальная протяженность.
2. Сердечность. Не сердечность в сердцевине строки, рискованно циркулирующая через перестановки-сочленения и допускающая свой перевод в- и на любой другой язык. Не просто сердечность, архивированная кардиологией, объект науки или технологий, философий и био-этико-юридическо-дискурсивных рассуждений. Пожалуй, даже не сердечность Писания и Паскаля, ни даже — это менее определенно — то, что им всем предпочитает Хайдеггер. Нет, история сердца, поэтически обернутая в идиому «apprende par Coeur» на моем языке или на другом, по-английски: «to learn by heart», или еще по-другому — по-арабски: «hafiza an zahri kalb» (воспринять сердцем), единое путешествие по нескольким тропам.
Два в одном: вторая аксиома в свернутом виде содержится в первой. Поэтическое, скажем так, будет тем, которое вы стремитесь узнать, но от- и из другого, благодаря другому и под диктовку, сердцем; imparare a memoria (власть сердца). Разве не вот уже она, поэма, как только подан знак сбывания события, в тот момент, когда пересечение дороги — перевод — остается невозможным, катастрофическим — и вымечтанным, требуемым там, где обещанное всегда оставляет место желаемому?
Благодарная признательность устремляется ей навстречу и предшествует в этом случае сознанию: ваше благодарение опережает понимание.4)
Фабула, которую вы можете подробно изложить как дар поэмы — эмблематичная история: кто-то пишет вас, вам, о вас, под- над вами. Нет, скорее эта марка, отметка, адресованная вам, оставленная и вверенная вам, сопровождается предписанием… По сути говоря, оно учреждено в той же форме, которая в свою очередь образует вас, предписывая ваш исток и сообщая вам рост: разрушь меня — говорит предписание — или, скорее, сделай мою поддержку невидимой извне, в мире (а это уже суть всех разъединений, история трансценденций); как бы то ни было сделай все, что должно быть сделано для того, чтобы происхождение отметки всегда оставалось нелокализованным и необщепризнанным. Обещай же: пусть отметка эта будет преобразована, пере- и дисфигурирована или неопределяема как port — и в этом слове вам услышится берег отплытия, а также отсылка, к которой как к порту, движется перевод. Съешь, выпей, сжуй написанное мной, неси его, доставь в себя, словно закон письма стал твоим телом, а тело — самим письмом.5)
Уловка предписания может позволить себе быть инспирированной простой возможностью смерти, риском того, что лодка (vehicule) направляется к каждому конечному бытию. Вы слышите о приближающейся катастрофе. С этого момента впечатано в чертах, идет от сердца, смертное стремление пробуждается в вас, движение (которое противоречиво — вы следуете за мной? — двойная пеня, апорийное принуждение) предохранить от забвения вот это, что в один и тот же момент подставляет себя удару смерти — и охраняет себя в слове, адресовании, защите ежа; словно животное, оно скатывается шариком на автостраде.
Кому-нибудь захочется взять его в руки, попытаться понять, удержать для себя и рядом с собой.6)
Вы любите, вы удерживаете его в единственности его формы, можно сказать: в незаменимой — и неотменяемой — буквальности слова, если мы говорим сейчас о поэзии, а не поэтическом вообще. Но наша поэма не хранит себя без движения ни в пределах имен, ни даже слов. Прежде всего — она брошена на пересечения дорог, в пустые поля, нечто — вне языков, даже если иногда случается, что она вспоминает себя с помощью языка, когда собирается в комок, и это еще опасней, нежели бегство: она думает, что защищена и — гибнет.
В буквальности: вам бы хотелось удержать в сердце абсолютную уникальность формы, событие, чья неуловимая единственность более не отделена от идеальности, идеального значения, как кто-нибудь сказал бы, от самого тела буквы. В стремлении к этой абсолютной неразъединенности, этой абсолютной неабсолютности, вы приближаетесь к истокам поэтического.
Отсюда бесконечное сопротивление к изменению даже буквы, которую животное выкрикивает своим именем. Вот оно, отчаянье ежа. Но что хочет это отчаянье, этот стресс? Stricto sensu (говоря буквально), быть настороже. Здесь — исток послания: переведи меня, следи за мной, удержи меня еще немного, береги себя, давай покинем автостраду.7)
Так мечта научения сердцем крепнет в вас. Позволяя вашему сердцу пересекаться с диктующим диктатом. В единое мгновенье: это невозможно — и это суть поэматического опыта. Вы еще не знали своего сердца, вы так — постигаете его. С точки зрения этого переживания и постижения я называю стихотворение тем, что научает сердце, изобретает сердце; тем, что в конце концов дает смысл слову сердце, и то, что в моей речи я не могу отличить от самого слова — сердце. Сердце — в стихотворении, прочувствованном сердцем, больше уже не означает всего лишь чистую подчиненность, независимую спонтанность, свободу активно влиять на кого-то, воспроизводя возлюбленные черты.
Память сердца поверяется как молитва — так лучше сберечь — определенной форме автоматизма, закону мнемотехники, литургии, которая на поверхности носит черты механические; автомобилю, изумляющему вашу страсть и мчащемуся к вам словно бы откуда-то извне: Auswendig, научение сердцем.
Так: ваше сердце бьется, оно распространяет свое биение, рождает ритм — преодолевая противопоставления, преодолевая внутреннее и внешнее, сознательное представление — и утерянный архив. Вот оно — сердце: среди дорог и автострад, вне вашего присутствия, смиренное, у земли, там — внизу. Все бормочет: это никогда не повторится… В уникальности шифровки (поэма — научение сердцем) скрепляет вместе смысл и букву, словно ритм, пересекающий пространство времени.
Итак, чтобы ответить в двух словах: например, эллипс или избранность, сердце, herisson или istrice, еж, вы должны вывести из строя память, разоружить культуру, узнать, как забыть знание, сжечь дотла библиотеку поэтик. Уникальность поэмы зависит от этого условия. Вы должны приветствовать амнезию, дикость, даже глупость этой «памяти сердца», herisson, колючки. Она ослепляет себя. Свернувшись в комок, выставив иголки, беззащитная и опасная, рассчитывающая и плохо приспособленная (поскольку не бежит, но свернувшись в комок и чувствуя опасность автострады, подставляется под удар). Нет поэмы без катастрофы, нет поэмы, которая бы не раскрывалась как рана, но нет такой поэмы, которая бы не ранила. Назовите поэму молчаливым заклинанием, беззвучной раной, которую — вашу и от вас — я хочу понять сердцем.
Так это происходит, по сути дела без усилий, без деятельности, без труда: она позволяет быть сделанной, без активности, без работы, в самом трезвом pathos, чуждая любой продукции, в особенности — творению. Поэма приходит как благовестие, входит посланием о другом и от другого. Ритм, но и аcсиметрия. Нет ничего другого, кроме самой поэмы, до всякой poiesis (поэтики). Когда вместо «поэзия» мы говорим «поэтичное», следует уточнять: «поэматическое». А более всего не позволяйте ежу-колючке возвращаться обратно в круг или зверинец poiesis: ничего не должно делать (poiein), никакой «чистой поэзии», ни чистой риторики, ни reine Sprache (чистая речь — нем.), ни «введения-истины-в творчество». Только эта зараженность, и эти перекрестки дорог; катастрофа, случившаяся здесь. Оборачивание, поворачивание вокруг — этой — катастрофы. Дар поэмы ничего не цитирует, у нее нет никакого названия, ее актеры исчезли, она приходит неожиданно, перехватывая дыхание, прерывая все связи с дискурсивной, и в особенности литературной поэзией. Из самого пепла этой генеалогии. Не феникс и не орел — просто колючка-еж, очень медленно, пониже, все ближе к земле. Ни возвышенное, ни телесное, ангельское — пожалуй, да и то на время.8)
Отныне поэму можно назвать некоей страстью, помеченной исключительностью. Пометка-подпись, воспроизводящая свое рассеяние, всякий момент вне logos, внечеловечная, едва ли домашняя, невозвратимая снова в семейство предметов: обращенное животное, свернувшееся в клубок, повернутое к другому и к себе, в целом нечто умеренно-осмотрительное, близкое к земле, незаметность, которой вы даете имя, тем самым в имени перемещая себя за имя, ометафоренный еж, ощетинившийся иголками в тот момент, когда эта безвозрастная слепота слышит, но не видит приближение смерти.9)
Поэма может свернуться в клубок, но это все еще делается для того, чтобы обернуть свои иглы вовне. То есть, она может рефлексировать о языке или говорить о поэзии, но она никогда не возвращается в себя, она никогда не движется сама по себе наподобие машин, несущих смерть. Ее событие всегда прерывает, пускает под откос абсолютное знание, она самоцельное бытие вблизи самого себя. Это «демон сердца», никогда не сжимающийся; скорее, он теряет себя (исступление или мания), он подставляется под опасность, он скорее позволит быть разорванным на куски тем, что обрушилось на него.
Без субъекта: поэма, пожалуй, она есть, и как бы оставляет себя; но уж точно Я никогда не пишет ее. Поэма: Я никогда не подписывает ее. Подписи ставят другие. Это Я обозначает только приближение страсти: понять, запомнить сердцем. Протяженная, достигающая той точки, где она уже относится с подозрением к собственной самоподдержке, без помощи извне, без субстанции, без субъекта, абсолютное написание себя, память сердца — пусть воспарит она над телом, полом, ртом, глазами; она уничтожает границы, проскальзывает сквозь пальцы, она едва слышна, но она наставляет нас из глубины сердца. Происхождение, знак избранности, утвержденный как наследие, она может прикрепиться к любому слову, к вещи, живой или нет, к имени «еж», между жизнью и смертью, с наступлением ночи или рассвета, сбитый с толку апокалипсис, смиренный и общеизвестный, прилюдный и тайный.10)
— Но поэма, о которой вы говорите, которую вы нашли на дороге и подняли, ее никто так не называл, она так противоречива…
— Вы произнесли это. Но это — следует продемонстрировать. Вспомним вопрос: «Что это..?» (ti esti, was ist.., istoria, episteme, philosophia). «Что это..?», — плачет исчезновение поэмы, еще одна катастрофа. Объявляя о приходе того, что есть как оно есть, вопрос салютует рождению прозы.11)
Комментарий
1) С первых же фраз перед читателем возникает нелегкая задача, ведь нужно определить, к какому жанру следует отнести этот текст. Деррида упорно повторяет однокоренные слова, но выражение «демобилизовать культуру» при всем желании к философским понятиям не отнести. С другой стороны, само заглавие «Что это такое, поэзия?» настраивает на то, что перед нами — трактат по эстетике. Одна из задач Деррида — уничтожить глянец привычного, сделать проблематичным нормативное создание и прочтение текста.
В литературе существует незыблемое правило неупотребления в соседних предложениях однокоренных слов. На рубеже XIX–XX веков некоторые писатели попытались свергнуть этот диктат нормы, настаивая на том, что повторение однокоренных слов может иметь художественный эффект, но в целом правило осталось незыблемым. В философии же такого правила нет, поскольку слова там используются в качестве понятий, как средства выражения мысли.
«Ученое незнание» — название главного труда выдающегося философа XV века Николая Кузанского. Он принадлежал к школе философов, которые на определенном этапе восхождения к божественному сознательно пользовались повторением однокоренных слов в качестве художественного приема, дабы в чувстве приобщиться, не умом, но сердцем «понять» Бога. «Ученое незнание» при таком подходе становится родом знания, преодолевающего себя.
2) Продолжается игра на грани возможного, ироничное предательство норм написания литературных и философских текстов, нормативного понимания поэтического. Снова — с нажимом — «диктант» в однокоренных вариациях повторяется многократно. Похоже, у нас на глазах такое обращение со словом становится новым правилом.
Но обращает на себя внимание и другое: сквозь изыск словесной игры нашего современника проглядывает неустранимая структура древнего восприятия мира: пророческий жест, отстаивание своей внутренней свободы («кто же осмеливается бросить мне вызов?»), и признание «диктата диктовки», идущего от «этого». И «я сам этот диктант», то есть буквальное воспроизведение надиктованного. Не следует забывать, что для выученика европейской культуры «диктант» отсылает и к латинским корням, к говоримому, произнесенному. В конце концов «диктант» оказывается не чем иным, как произнесенным Словом.
Вместе с тем здесь присутствует и классическая триада диалектики: «Это видит себя как диктант, как ответ в существе своем поэтический». То есть, речь идет о самопорождении «этим» «иного» и возвращении в себя в качестве «ответа». Поэтому совершенно не случайно диалектика «одного» и «иного» в следующем предложении уже зримо обозначается в тексте. А понятия «одно» и «иное» отсылают не просто к диалектике, но к самому ее началу, платоновскому «Пармениду».
Так в границах всего нескольких предложений, прихотливо переплетаясь, уживаются древнее, изначально иудейское мировидение, греческая диалектика и латинский «диктант», средневековая мистика «ученого незнания», самопорождение единого и возвращение к себе как ответ (одна из основных парадигм метафизики). Деррида мыслит именно этими вневременными парадигмами, позволяющими объединять казалось бы несочетаемые идеи и образы. Он поступает точно так же, как любой другой современный художник, сочетающий в своем творчестве разностильные и разновременные пласты, относящиеся к разным традициям.
Здесь же впервые появляется и «еж». Это чисто художественный образ человеческого сердца, души, самой сути поэтического. «Еж» Деррида затерян между, где-то там, на ничейной земле. И это его основная бытийная характеристика. Он неустранимо маргинален, он на обочине, а попытка пересечь «автостраду» на пути к — другому, и вожделенна, и смертельно опасна. Этот еж совершенно не укладывается в рамки традиционной поэтики, почти разрушая ее, но позволяет говорить о поэзии — поэтично.
3) Деррида не случайно (и совершенно сознательно) пользуется словами повышенной многозначности. В одной из своих ранних работ он сочувственно цитирует высказывание Аристотеля о том, что понятие должно обладать одним или несколькими строго фиксированными значениями, цитирует — и идет в прямо противоположном направлении.
Обратим внимание на слово economie. Это непереводимая идиома, которая подчеркивает начало упорядоченности и — в этом качестве — наибольшей экономичности (целесообразности) явления. Но вместе с тем есоnomie несводима ни к «предмету», ни к «сущности», ни к «структуре». Так, в данном случае Деррида стремится избежать казалось бы естественного в этом контексте понятия «структура», поскольку весь абзац — гимн неструктурированности, невозможности окончательного структурирования-определения изначального человеческого опыта (для передачи этой многозначности опыта Деррида пользуется словом experience, также чрезвычайно насыщенным смысловыми обертонами). Даже центральный философский термин «дискурс» (логическое мышление в понятиях) приобретает неожиданно поэтические черты — в нем акцентируется латентный образ тропы, пунктирно-прерывистого движения.
Речь идет, таким образом, о самом истоке «поэтического», этом самом интимном и никогда окончательно не выразимом в слове (вот мука!) чувстве своего-пребывания-в мире.
В дальнейшем для обозначения этого истока «поэтического» Деррида вводит свое собственное наименование — «поэматическое».
Думается, мы не сможем пойти дальше в анализе ученого незнания Деррида, если не попытаемся более четко уяснить различие между образом (поэзия) и понятием (философия). Основа образа — метафора, то есть фиксирование общности по одному или нескольким признакам между двумя различными предметами («мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир», — замечает король метафор А. Вознесенский). У Вознесенского кот оказывается подобен радиоприемнику благодаря очень отдаленному и видимому только поэтом — сходству. Но какой признак объединяет все вещи? То, что они — существуют, есть. Их «есть» — не что иное, как предельно общая метафора, и в тоже время начало философии, исток которой — вопрошание о том, что это такое — есть.
Итак, философия пользуется тем, что можно назвать предельными метафорами. А это значит, что в принципе не существует непроходимой границы между философией и поэзией: на самом деле обозначаются лишь некие полюса притяжения — поэтического или философского, акцентуации того или иного значения (дискурс-исследование-тропа).
Деррида в этом противополюсном пространстве занимает положение срединное, заведомо маргинальное и в отношении философии, и в отношении поэзии. Он работает в той области, где предельно ослаблены силы притяжения и философского, и поэтического полюсов. Очень легко вставить поэтический образ в философский текст или щегольнуть философским понятием в тексте литературном: гораздо труднее создавать тексты, в которых метафора балансирует на грани перехода в понятие, где создается само это напряжение пограничности текста, смысла, самого бытия в его затерянности-между, экстерриториальности, посторонности навязываемым извне нормам словоупотребления, осмысления, существования… И только здесь, на ничейной земле — полагает Деррида — может состояться переосмысление традиционного, еще один шаг вперед по всякий миг — обрывающейся тропе.
4) Здесь снова употребляется непереводимо-идиоматическое «economie», этот кентавр метафоры-понятия, подчеркивающий неисчерпаемость поэматического опыта. Economie и есть по сути дела «сердце» (сердечность), употребленное с нажимом раз десять в одном абзаце, и от этого теряющее конкретность образа и превращающееся в очередного кентавра. А economie в своей «эллиптичности» есть не что иное как графический образ и сердца, и свернувшегося на дороге ежа.
Вместе с тем мы пришли к довольно обычной, даже банальной трактовке поэтического, подчеркиваемой тем, что выражение «память сердца», «власть сердца», «научение сердцем» существует практически во всех языках. Но не будем забывать, что наш еж и обыкновенен, банален — и уникально-неповторим. Именно поэтому здесь снова возникает тема пересечения сердца (уникальность опыта) с надличным диктатом диктовки. На пересечении их, пересечением их и рождается поэзия. А перевод (пересечение дороги, как послание — иному), «остается невозможным, катастрофическим — и вымечтанным». Мы видим, как снова акцентируется тема границы, пограничного бытия, невозможности и вымечтанности, а потому безысходной трагичности маргинального существования нашего «ометафоренного ежа» (по формуле самого Деррида, данной несколькими абзацами ниже).
5) В следующем отрывке развивается и углубляется тема столкновения общего и частного: «кто-то пишет вас, вам, о вас…» Речь идет ни много ни мало — о предписании (или диктовке), фактически о предопределенности; говорится о «предписании», которое «конституирует вас, предписывая ваш исток». Здесь уже один шаг до отмеченности, и он — вполне логично — позднее будет сделан.
Как же возможна вот эта конкретная единичность моего существования, делающая меня совершенно отдельным, трагически и безысходно отграниченным от других существований, если у нас — общий исток? Более того, одна метка, отмеченность, судьба?
Но оказывается «это» требует: «сделай мою поддержку невидимой извне, в мире»… То есть, сделай неразличимым то общее, что объединяет меня — с иным. И здесь же Деррида уточняет: «А это уже суть всех разъединений, история трансценденций». На сей раз открыто, брутально сталкивается поэтическая «разъединенность» (ср. «разъединенность близких душ» и т.д) и философская «трансценденция», имеющие единый смысл-исток.
На уровне текста, слова, ведется непрекращающаяся борьба различий, порожденных единым началом. То, что в трагедии (будь-то история Каина, Эдипа или Макбета) описывается на уровне восстания единичного против своей единичности-судьбы, у Деррида дано на уровне текста, столкновения разъединенно-единых смыслов.
Трансценденция — один из самых содержательных философских терминов, приобретавший разные смысловые обертоны на всем протяжении развития европейской философии. В самом общем смысле трансценденция — это выход за пределы единичности, данности, вещности. «История трансценденций» (еще один поэтическо-философский кентавр) — история попыток выйти за пределы места, времени, личной и сословной ограниченности; «катастрофическое и вымечтанное пересечение дороги», «перевод».
Темы истока и отмеченности объединяются в конце абзаца словом port (portare — нести), данным в его изначально латинской форме, чтобы подчеркнуть двойственность смысла port как истока-возвращения и меты-несения, неотменяемости знака истока. Это музыкально-поэтическая вариация, не имеющая ничего общего с философским дискурсом. Строфа кончается пылким восклицанием, подчеркивающим страстное стремление к трансцендированию: «Съешь, выпей, сжуй написанное мной…»
Но не только: здесь проглядывает и древняя тема «слова, ставшего плотью», и личная тема Деррида: он воспринимает текст как живое саморазвивающееся единство в напряжении противостояния economie и dispersion (центростремительной силы самосохранения — и стремления к рассеянию, выходу за свои пределы). Фактически Деррида приписывает тексту все атрибуты, которыми философы обыкновенно «награждают» человека: он очеловечивает текст.
6) Деррида снова использует предельно многозначное слово — vehicule (средство передвижения, машина, повозка, проводник и т.д). В данном контексте это и машина, приближающаяся к свернувшемуся на автостраде ежу, и более древнее значение лодки перевозчика в царство мертвых. «Двойная пеня, апорийное принуждение»: двойная пеня перевозчика за душу, находящуюся на рубеже жизни и смерти; напоминание об апории Зенона, в которой Ахиллес в силу допущения бесконечной делимости пространства никогда не догонит черепаху (здесь: ассоциация с машиной, надвигающейся на ежа). Поэтому «апорийное принуждение предохранить» — неразумно-отчаянное стремление в поэзии и с помощью поэзии избежать неизбежного.
7) Снова звучит тема слова, ставшего плотью буквы, выражением вот этого конкретного, уникального существа. Поэма — жива, в ней пульсирует сердце, написавшее ее. Она — полное слияние уникальности этого «сердца» с плотью текста, с самой буквой его. И здесь же, рядом с этим образным представлением — выражение, заимствованное из словаря классической эстетики: «идеальное значение, как кто-нибудь сказал бы». Как сказали бы Кант, Шеллинг, Гегель… А «абсолютная неабсолютность» — из словаря Николая Кузанского и Дионисия Ареопагита. Но для чего производится это смешение философий и времен? И смешение ли это? Скорее, подчеркивание вневременного единства поэтического начала: на разные лады фактически говорится одно и то же: это не доказательство, а — убеждение, втолковывание, я бы даже сказал — музыкально-поэтическое втемяшивание.
8) До абзаца «Так это происходит» идет то, что можно было бы назвать (используя музыкальную терминологию), разработкой экспозиции. Отметим только появление нового мотива: говорится о некоей «форме автоматизма», присущей поэме, и необходимой для ее сохранения, то есть, необходимости того, что относится к мере, ритму, рифме и т. д. А дальше возобновляется уже давно ведущийся (к сожалению, заочный) спор Деррида с Хайдеггером и в его лице — с немецким неоромантизмом. И не только с ним — со всем и всеми, кто навязывает маленькому человеку огромные идеи «переустройства», «теургии», «творчества», «производства», «введения-истины-в-творчество» (Хайдеггер) и т. д. Человек в XX веке был «переогромлен» (Мандельштам) этими идеями, приведшими к уничтожению миллионов. Отсюда недоверие Деррида к абстракциям, правилам, даже если это поэтика как совокупность правил создания текста. «Очень медленно, пониже, все ближе к земле» — повторяет как заклинание Деррида, и не только в рамках этого текста. Таково сердце человека, его судьба в ожидании неизбежной катастрофы-смерти. Не надо, бесчеловечно выдумывать какие-либо другие катастрофы: и этой хватит на всю жизнь. Поэтому речь идет даже не о поэтичном, а поэматическом (изначальном опыте-переживании), предельно-личном, и в этом только качестве — предельно общем. Именно поэтому появляется в тексте казалось бы невозможный «трезвый pathos», ибо пафос, не умеряемый и не поверяемый трезвостью, перерастает в гитлеровские концлагеря и в 37-ой год.
9) «Пометка-подпись, воспроизводящая свое рассеяние»: тот же прием очеловечивания текста. Для Деррида signature (подпись) — символ человека в нерасторжимости личного (почерк, имя) и общего (буква). Более того, подпись, располагающаяся вне текста — маргинальна, и тем не менее, сам текст — ее создание, «рассеяние» ее, результат этого личного начала. Рассеяние (dispersion) — еще один кентавр образа-понятия, позволяющий избежать ненавистной Деррида ассоциации со сделанностью, произведенностью.
«… эта безвозрастная слепота слышит, но не видит приближение смерти». Опять полемика с Хайдеггером, с его «бытием к-смерти» и утверждением главенства категории времени, временности. Вместо помпезной красивости философского понятия — дрожащий еж, который «слышит, но не видит» (чувствует — и не знает, не осознает до конца своей судьбы).
10) Вплоть до заключительного диалога — повторение, поэтическая вариация темы единичности и исключительности «сердца», «ежа», «памяти сердца (поэмы): «ее событие (поэмы) всегда прерывает, пускает под откос абсолютное знание», «Я никогда не пишет ее» (речь идет о безлично-абсолютном фихтевском Я), «происхождение, знак избранности, утвержденный как наследие…»
На последнем выражении исключительности «сердца» следует задержаться. Уже не раз в нашем маргинальном еже проглядывали еврейские черты. Но теперь сам Деррида, подводя итоги своего поэтического дискурса во славу «сердца», дает краткую и исчерпывающую характеристику еврейского самосознания. И думается, это не случайно: кардинальная идея экстерриториальности человека, его пограничности, его пребывания-между и вне базируется на личном опыте Деррида. И об этом в одном из своих интервью он говорит безо всяких обиняков: «Вполне определенно — во мне живет чувство экстерриториальности по отношению к европейской, французской, германской, греческой культуре… Вне той экстерриториальности, которая обща всем, кто философствует, пишет, и задает вопросы… за ней — существует еще что-то другое, чувство иной экстерриториальности…» Или в другом интервью, вспоминая первые годы во Франции: «…стремление к интеграции в нееврейской общине — восхитительное, но болезненное и подозрительное стремление; нервозная бдительность, изматывающее внимание к любому намеку на расизм. И симметрично — нетерпеливое дистанцирование от еврейской общины… Отсюда — чувство не-принадлежности, которое я сообщил… философии, всему».
Более того: «Если бы я был достаточно оптимистичен в этом отношении, я бы сказал, что путешествие моего короткого существования — это путешествие в поисках определения и наименования места, благодаря которому я мог бы иметь этот опыт экстерриториальности…» Что ж, затерянный между автострад и дорог беспомощно-агрессивный еж Деррида пока не нашел своего места. И Деррида совсем не уверен, что это место найдется.
11) Вопрос: «Что это?» (буквально: что есть это?) рождает науку, рассматривающую то, что «есть», превращающую мир в предмет. Поэма как «память сердца», и шире — поэзия кончается там, где возникает вопрос, превращающий мир в предмет анализа, рассмотрения, «есть». Поэма всегда преодолевает свои пределы, стремится слиться с иным. Она никогда не есть то, что она есть («и одно, и иное; ни одно, ни иное»). Проза здесь — синоним отношения к миру как к вещи, предмету.
Поэтический дискурс Деррида вернулся к своему началу: «Что это такое, поэзия?» Еж свернулся в клубок, выставив наружу свои беззащитные колючки.
Александр Любинский
От редакции
Деррида, Жак (Derrida, Jacque) (1930–2004), французский философ. Родился 15 июля 1930 в Эль-Биаре (Алжир). Учился в Высшей нормальной школе в Париже, в 1964 начал преподавать философию. Заметной фигурой во французской философии Деррида стал в 1967, когда выходят три его книги: Голос и феномен (La Voix et le phénomène), Письмо и различие (L' Ècriture et la différence) и Грамматология (De la Grammatologie). С 1968 по 1974 он постоянно преподает в университете Джонса Хопкинса, а после 1974 — в Йельском университете.
Суммируем то, что сделал Деррида в своих работах, в следующих пяти пунктах.
1. Деррида демонстрирует живучесть логоцентризма в западной мысли и неразрешимость его парадоксов, а также маловероятность его преодоления, поскольку любая критика логоцентризма опирается, в конечном счете, на логоцентрические понятия.
2. Деррида указывает на важность элементов, кажущихся маргинальными, и на зависимость систем от того, что они вытесняют и подавляют.
3. Деррида разрабатывает технику интерпретации, необычную для философии, поскольку она использует ресурсы риторики текста, и продуктивную для литературной критики, исследующей язык и его парадоксальность.
4. Хотя Деррида не предлагает собственной теории языка, его деконструкция других теорий показывает, что значение является продуктом языка, а не его источником, и что оно никогда не может быть вполне определенным, поскольку является результатом контекстуальных сил, которые не могут быть ограничены.
5. Наконец, работы Деррида ставят под сомнение различные понятия, на которых мы привыкли основываться, такие, как происхождение, присутствие, человеческое Я, показывая, что они скорее результаты, нежели чистые данности или основания.
В своих ранних работах Деррида анализировал тексты Платона, Канта, Руссо, Гегеля, Гуссерля и Фрейда. В более поздних работах — Гла (Glas, 1974), Истина в живописи (La Verité en peinture, 1978) и Почтовая открытка (La Carte postale, 1980) — он экспериментирует с конструкциями, которые могут быть названы скорее литературными, чем философскими. Его работа — это непрерывное исследование и оспаривание границ литературы и философии. Умер 8 октября 2004 в Париже (из статьи в Онлайн Энциклопедии «Кругосвет»).
***
Эссе писателя из Израиля Александра Любинского «Время и речь», которое справедливо можно отнести к жанру стихо-прозы, — его творческий ответ на вопрос Жака Деррида «Что это такое, поэзия?» — вы можете прочитать здесь.
Список всех публикаций А. Любинского в нашем журнале на странице «Наши авторы»).
В публикации использован рисунок художника-дизайнера, члена Международного Союза Дизайнеров Ирины Терновой (училась в Москве, сейчас живет во Франции).
Мария Ольшанская